Видеодром
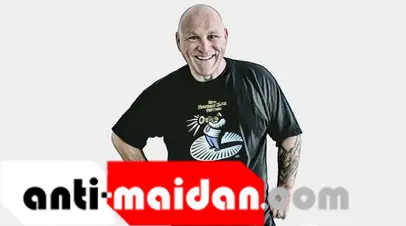
Как мы знаем по сериалу South Park, Канада — это не страна, а какой-то анекдот. В этом есть смысл, поэтому в своём Telegram-канале про кино я всячески убеждаю читателей ни в коем случае не смотреть всё, что снято нынче в Канаде. Потому что это будет на 99% или жалкая попытка уйти от налогов в США при производстве, или просто жалкая попытка с чудовищным налётом провинциальности.
Камео Шнурова и хиты 1990-х: каким получился американский боевик Найшуллера «Никто»
Но так было не всегда. Когда-то в Канаде были Джони Митчелл, Нил Янг, группы Rush и Guess Who — сравните с унылыми нынешними пионерами Arcade Fire, и всё станет понятно. То же самое у них и в кино. Когда-то там были Дэн Эйкройд, Иван Рейтман и, конечно, Дэвид Кроненберг.
Наверное, Кроненберг — самый влиятельный канадский режиссёр в мире (окей, окей, Атом Эгоян тоже, только он всё-таки армянский режиссёр, и его всё равно никто не знает, кроме владельцев московской легендарной студии West Video Тиграна и Вартана).
А Кроненберг ворвался даже в поздний СССР с бумом видеомагнитофонов и видеосалонов. Выжившие наверняка вспомнят кассеты с «Видеодромом», «Сканнерами» и, конечно, «Мухой».
А влиятельный он потому, что Кроненберг — пионер серьёзного поджанра хоррора под названием «боди-хоррор», он же «биологический хоррор» — всё, что связано с трансформацией тела, мутациями, хирургическими извратами, чудовищными болезнями и т. д. Всё, что так пугает человека на глубинном уровне. Ну заодно и зомби, но их стало так много со времён Джорджа Ромеро, что они уже идут отдельным маршем.
Но, кроме всего прочего, Кроненберг настолько серьёзный и развивающийся мастер, что убедил всех в том, что его фильмы имеют более философскую подоплёку. Ну а слушателям режиссёрских курсов при ДК железнодорожников расскажут, что это постмодерн от хоррора. В конце концов, в Америке в 1950-е были и оригинальная «Муха», и «Капля» про то же самое. Да если подумать, то и Лавкрафт тоже был одержим страхом чудовищных метаморфоз тела. А Кафка?
У Кроненберга вся семья — евреи из Литвы. Судя по всему, очень светские и прогрессивные, поэтому пичкали сыночку книжками и арткором типа Бергмана (папа лично его водил на «Седьмую печать»). Но сын больше увлекался фильмами про пиратов и вестернами, а читать больше любил комиксы — «Капитан Марвел», все дела. Но главное — он подсел на комиксы от издательства EC — да-да, те самые, которые «Байки из склепа». Издательство, которое попало под волну официального хейта и преследования комикс-культуры со стороны правительства США. Самое смешное, что все советские и потом российские инвективы в адрес комиксов — дословный перевод выводов подкомиссии Сената США, основанных на материалах безумного доктора Вертэма. И прочая бредятина из его книги «Соблазнение невинного».
Кроненбергу соблазн пошёл только на пользу. Заодно он читал научно-фантастические журналы с рассказами Азимова и Брэдбери, а потом уже перешёл на Филипа К. Дика, влияние которого на его творчество гораздо ощутимей. Из фильмов, которые он называет в качестве очень важных для себя, — «Андалузский пёс» и «Альфавиль». Конечно, Жан-Люк Годар —ну кто бы сомневался! Волне естественно, что он с детства сам начал писать что-то вроде фантастики, но кто же в приличной семье пожелает, чтобы сын был фантастом или мичманом? Он должен заниматься наукой — может быть, ботаникой, а может быть, даже лепидоптерологией. Дэвид поступил в Университет Торонто изучать бабочек и цветочки, но быстро сломался и перешёл на литературный факультет. Ну а что, бабочки и литература — Набоков уже протоптал этот путь.
Кстати, о пути: никогда не знаешь, кто из людей, которые встретились тебе по жизни, как на тебя повлияют на всю оставшуюся жизнь.
С Кроненбергом учился некто Дэвид Сектер, и был он геем. И он увлекался кино, причём настолько, что сам написал и снял на собственные деньги фильм про геев «Зима нас согреет», который даже показали на Каннском фестивале. Просто все обалдели, что в Канаде есть кто-то, кто снимает кино, да ещё и про геев. Это произвело такое впечатление на Кроненберга, что он решил, что он теперь тоже режиссёр, несмотря на то что дальнейшая карьера однокашника сложилась довольно печально — его второй фильм задушил местный профсоюз театральных работников, а потом он вообще подцепил СПИД и замолчал.
А Кроненберг увлёкся кино: начал общаться с местными начинающими кинематографистами, погрузился в нью-йоркское андеграундное кино, снял две короткометражки на 16 мм, «Трансфер» и «Из канализации», и вместе с новым другом Иваном Рейтманом учредил кооператив. Иван Рейтман тоже хорошо известен отечественной публике. Причём никто обычно не задумывается, что он — чешско-канадский подпольщик и альтернативщик, так как его знают по большим и успешным картинам типа «Охотники за привидениями» и «Детсадовский полицейский», но жизнь — странная штука.
В общем, Дэвид подался в Европу — вкусить настоящей европейской культуры. И вкушал целый год. Потом вернулся и закончил-таки университет. То есть по образованию он — писатель и критик, а в кино — самоучка. В те времена у него ещё было два фильма — «Стерео» и «Преступления будущего».
«Стерео» — его дебют в часовом формате, чёрно-белый, псевдонаучный — некие эксперименты над телепатическими связями. Картина была немой, потому что камера Bolex, которой снимал Кроненберг, издавала слишком много шума. И да — это была именно та камера, о которой мечтал молодой Дэвид Линч. Результат — настоящий артхаус, артхаусней некуда, но снято на удивление грамотно для самоучки. Если вы найдёте копию с текстом — он наложен позже из обрывков псевдонаучной мути. Но фиксируем: тема хирургического вмешательства в мозг тут заявлена.
Он шёл уверенной поступью Годара и прочих независимых режиссёров. Авторское кино должно было стать его будущим.
Самое любопытное, что в то время, видимо, с кино в Канаде было так плохо, что правительство финансировало всё что угодно, лишь бы снимали. Потому что правительство таки профинансировало его фильм «Судороги» (1975). Картина снята так просто, что почти примитивно. Всё происходит в одном многоквартирном доме. Учёный, который выращивает паразита в теле своей юной любовницы. Паразит распространяется по всему жилому комплексу. От паразита люди становятся сексуально озабоченными убийцами. Всё. Спецэффектов практически нет. Даже сам паразит — максимально гадкий, но для его создания достаточно было прибраться с пластиковым пакетом за своей собакой на газоне.
Собственно, вот он, боди-хоррор, как есть. Конечно, можно на него навесить какие-то вторые и третьи смыслы, но пусть этим занимаются те, кому делать больше нечего.
Любопытно другое: удалось бы ему получить финансирование, если бы он пришёл с таким сценарием в Минкульт РФ? Кстати, всего 179 тысяч канадских долларов бюджет. Сейчас это 110 тысяч евро, даже квартиру не купишь. Но собрал-то он аж миллион только внутри страны!
Кстати, именно государственное финансирование ставили ему в вину критики, потому что «как можно на деньги налогоплательщиков снимать кино, полное насилия, крови и разврата?». В общем, всё как всегда. За положительную рецензию на этот фильм стали считать рецензии, где не было откровенных оскорблений. Но. Этот фильм — один из самых кассовых англоязычных фильмов Канады всех времён.
Со следующим фильмом «Бешенство» (1977) сложилось всё гораздо лучше. Тут опять хирургия, девушка, у которой под мышкой из-за операции выросло жало, которое не только сосёт кровь, но ещё и распространяет бешенство среди людей. Сейчас, спустя год так называемой пандемии, очень любопытно смотреть, как режиссёр видит военное положение по поводу эпидемии — некоторые детали прямо весьма показательны.
На главную роль Кроненберг хотел пригласить малоизвестную Сисси Спейсек, но та как раз снималась в фильме «Кэрри», а студия отказалась её брать из-за её акцента. Тогда хитрый чешско-канадский Иван Рейтман сделал отличный ход: он пригласил Мэрилин Чемберс. Во-первых, Чемберс, конечно, гораздо более привлекательна, чем невзрачная Сисси, а во-вторых, она уже была одной из двух самых известных в мире порноактрис. В 1972 году вышел фильм «За зелёной дверью». Вместе с «Глубокой глоткой» (там играла Линда Лавлейс) этот фильм ознаменовал собой переход порнокино в легальную индустрию. Ну и при бюджете 60 тысяч канадских долларов он собрал 50 миллионов.
Чемберс играет богатую тусовщицу, которую против её воли затаскивают в подпольный секс-клуб, чтобы она поняла, что такое секс всей её жизни. Снят он очень качественно, практически на грани арт-хауса. Это лишний раз намекает нам, что боди-хоррор как жанр весьма близок по воздействию на аудиторию к хардкорной порнографии.
Замысел Рейтмана был прост: Мэрилин Чемберс знали уже миллионы людей в мире, даже те, кто говорил, что не смотрит порно. Например, сам Кроненберг, который утверждает, что не видел «За зелёной дверью».
Переход из порно в мейнстрим-кино в то время был практически невозможен, так что Чемберс осуществила натуральный прорыв десятилетий вопреки лицемерным голливудским киношникам. Открыла и другим девушкам эту дверь. И даже толстому и усатому Рону Джереми по кличке Ёжик.
«Бешенство» Кроненберга — также один из самых кассовых фильмов Канады, рядом с его же «Судорогами». В 2019 году вышел ремейк картины режиссёров-сестёр по фамилии Соска.
На следующей картине «Беспутная компания» (1979) стало понятно, что всё, что не касается уродования тел и разума, Кроненберга не сильно интересует. Лента была про автогонщиков, и смотреть её не стоит вовсе. Но в том же году, и тоже на государственные деньги, он снимает «Выводок» — то, что можно назвать психологическим боди-хоррором. Потому что тут психологических извращений больше, нежели телесных.
Несмотря на невероятную простоту продакшена, бюджет составил полтора миллиона канадских долларов, а принёс пять миллионов.
По-моему, картина занудная. А вот Чикагская ассоциация критиков назвала его «одним из 88 самых страшных фильмов в истории». Может быть, им было очень страшно слышать слово «психоплазма» в пятисотый раз за 92 минуты экранного времени? В главной роли — английский актёр Оливер Рид, тот самый, который много играл у Кена Рассела, в том числе в фильме «Дьяволы».
Но направление развития автора уже определено: на самом деле психология и психиатрия его интересует больше, чем физиология. Более того, считается, что «Выводок» — фильм про безответственность психиатров. Немудрено, что потом режиссёр обратится к фигуре ученика Фрейда — Карла Юнга.
А пока он снимает «Сканнеры» (1981) — про телепатов и даже киберпатов. Тут играет Джек Николсон для бедных — Майкл Айронсайд. Взрывающаяся голова телепата — главный спецэффект в картине. Некоторые назвали фильм прямым аналогом «Хэллоуина» Джона Карпентера — «хоррор ради хоррора». Сам Кроненберг утверждает, что это был самый трудный в производстве его фильм. Дело в том, что премьер-министр Канады Пьер Трюдо тогда установил систему поощрения кинопроизводства в виде программы возврата налогов, и Кроненберг так спешил подать заявку на деньги, что даже полноценного сценария не успел написать.
Картина «Видеодром» (1983) признаётся многими лучшим фильмом Кроненберга. Тем не менее он собрал денег в три раза меньше, чем на него потратили. Так что можно смело его назвать культовым. Но это первый его фильм, где хоррор имеет чёткую политическую подоплёку, потому что история про загадочный телеканал — она про американскую промывку мозгов и прочий mind control. Но так как это всё-таки боди-хоррор, автор считает, что за утратой контроля над разумом человек разрушается и физически. Тут есть тема садомазохизма, софткорной порнографии, психосексуальности и заговора. Нельзя пройти мимо игры Дебби Харри — вокалистки группы Blondie (главный хит — Heart Of Glass). Весёлая, талантливая и очень красивая Харрис почему-то привлекала мрачных извращенцев — её много писал художник Х.Р. Гигер и снимали Кроненберг с Джоном Уотерсом и Йонасом Окерлундом.
Главную роль играет молодой Джеймс Вудс, чей агент потом выкинет в корзину сценарий дебютного фильма Тарантино «Бешеные псы», даже не показав актёру. А ведь ему там предлагали главную роль!
Наконец, на хоррор Кроненберг натянул философию Маршалла Маклюэна (да, в Канаде есть даже свои философы. Канадские.) Хотя его идеи о том, что электронные средства коммуникации (читай теперь: соцсети) «обеспечивают несогласие по всем вопросам» (читай: стравливают пользователей друг с другом»). Спецэффекты скромные, но физиологичные — полуживые предметы, поглощающие человека телеэкраны, плоть, поглощающая видеокассеты… Внезапно они оказались близки видению мира Уильяма Берроуза, так что неслучайно потом Кроненберг экранизирует «Голый завтрак» писателя.
В тот же год режиссёр наконец разобрался с многострадальным сценарием «Мёртвой зоны» по Стивену Кингу.
Владельцу прав на экранизацию Дино де Лаурентису не понравилось ничего — ни то, что сделал Дж. Боам, ни то, что сделал гениальный польский режиссёр Анджей Жулавски (о нём как-нибудь отдельно поговорим). Но Кроненберг таки вырулил так, что понравилось и Лаурентису, и самому Кингу.
Стивена Кинга много экранизируют, и мы все знаем, что удачных фильмов по нему чудовищно мало. С этим текстом Кинга русская публика познакомилась раньше остальных его произведений — он печатался в нескольких номерах журнала «Иностранная литература» ещё в СССР в 1984 году в переводе Васильева и Таска. Советских привлекла идея-видение о грядущем приходе в Америке фашистского режима в популистских одеждах. Хотя тогда ещё никто не мог предвидеть, что современный фашизм будет называть себя антифашизмом.
В главной роли — Кристофер Уокен, который хорош в любой роли.
С «Мухой» (1986) Кроненберг уже становится настоящим голливудским режиссёром и на 20th Century Studios за 15 миллионов снимает почти блокбастер на 60 миллионов кассовых сборов. Его выход как раз совпал с началом проникновения видеомагнитофонов в СССР. Так что можно сказать, что это первый фильм Кроненберга, который стал достоянием российского зрителя. Немудрено, что в те времена он выглядел шокирующим, неприятным и крайне физиологичным. Просто тогда мы тогда такого слова не знали — боди-хоррор. Молодые Джина Дэвис и Джефф Голдблюм, трансформация организма, замешанный на ней секс и т. д. Кроненберг верен себе. Можно рассматривать этот ремейк старой американской картины 1958 года по рассказу Жоржа Ланжелана как хоррор, конечно, а можно задуматься над тем, что Жорж Ланжелан вовремя прочёл Франца Кафку и всё это — одно из воплощений его Die Verwandlung («Превращение»).
Тут уже Кроненберг близко подобрался к «Оскару» — фильму дали награду за лучший грим в 1987 году.
Лента, которая у нас называется «Связанные насмерть» (1988), а на самом деле — Dead Ringers, «Точный дубликат», — его следующая работа. Здесь играет серьёзный актёр Джереми Айронс, и история, конечно же, про клинику, гинекологию, секс, психические зависимости и смерть.
Но похоже, что режиссёру пора настала куда-то расти. Тем более что эта картина сколько потратила, столько и собрала (почти). Одна из самых скучных его картин. Хотя жуть-то была реальной — фильм основан на истории реальных братьев-гинекологов Стюарта и Сирила Маркусов, которые потом сошли с ума и покончили с собой. Жизнь начала догонять фантазию Кроненберга, и с этим надо было что-то делать.
Он решил сделать коктейль из повести Naked Lunch («Завтрак нагишом», он же «Голый завтрак») Уильяма Берроуза, других его произведений и некоторых фактов из жизни самого Берроуза, в частности его «игры в Вильгельма Телля», которая закончилась смертью его гражданской жены в 1951 году.
Невероятно стильный Питер Уэллер в главной роли, стиль в декорациях и, конечно, музыка пионера «свободного джаза» саксофониста Орнетта Коулмана, которого, безусловно, лучше слушать, вдохнув инсектицидов (сарказм, если что). И тут опять возникает Кафка: «Реальный кайф. Это как у Кафки — чувствуешь, что превратился в насекомое», — говорит Джуди Дэвис, ширяясь средством от тараканов. В основном тут звучит Midnight Sunrise с альбома Коулмана «Танцы в твоей голове». Кстати, в студии на записи альбома тусовался сам Берроуз, так что всё сходится.
Сюрреалистичный, красиво-отвратительный и наркоманский фильм провалился в прокате с треском: потратив 18 миллионов, он собрал всего 2,6.
Но зато он получил награды разных ассоциаций кинокритиков и Академии канадского кино и телевидения.
Кроненберг понимает, что надо куда-то двигаться дальше, раз уж публика больше не понимает его физиологического сюрреализма и больно умного Берроуза. И он снимает картину «Мадам Баттерфляй» (1993) (у нас все фильмы по пьесе Дэвида Хвана называют просто «М. Баттерфляй»). Сюжет известен уже даже фонарному столбу. Но Кроненберг по максимуму убрал оттуда политические реалии, намёки и инвективы. В ролях — Джон Лоун, тот самый, что сыграл у Бертолуччи «Последнего императора», и Джереми Айронс. В кинотеатрах он собрал жалкие полтора миллиона долларов.
Скорей всего, следующий ход, который замыслил Кроненберг, чтобы как-то остаться на плаву после двух провалов подряд, — взорвать аудиторию и нарваться на бан.
Фильм «Автокатастрофа» (1996) — про симфорофилов, людей, которые получают сексуальное удовлетворение при виде катастрофы или несчастного случая. Уж не знаю, кто выдумал этот термин, но кино, по-моему, дико скучное. Но его показали даже на Каннском фестивале, и Ф.Ф. Коппола буквально выбил для него Спецпремию, хотя фильм пытался номинироваться на «Золотую пальму». Зрители освистали фильм при показе. А потом его начали банить в разных странах. И даже Тед Тёрнер, который контролировал компанию-дистрибьютора картины, сделал всё, чтобы фильм не пошёл в США. Впрочем, Канадская академия кино опять вручила ему премию.
Зато собрал денег — 23 миллиона при бюджете 9 миллионов. И, думается, дело не в самом фильме, а в истерике и запретах, которые преследовали ленту в прокате.
Тут Кроненберг расслабился и вернулся к любимой теме с новой точки зрения: «Экзистенция» (1999) — это опять про трансформацию тела. На этот раз при помощи игровой консоли и виртуальных видеоигр. В общем, можно считать, что Кроненберг первым сформулировал будущее вживление игровых трактов в нервную систему человека. Ну и выращенный из костей и плоти пистолет в кадре — привет старенькому «Видеодрому». В главной роли — Джуд Лоу.
Коммерчески опять провал: при бюджете 15 миллионов он собрал лишь 2,9. «Серебряный медведь» 49-го Берлинского кинофестиваля.
Неудивительно, что на следующий фильм про шизофреника, «Паук» (2002), он никак не мог собрать денег, а те, что были, из Франции поступали нерегулярно. Ленту показали на Каннском фестивале, а больше, собственно, нигде. Что лишний раз показывает, что устремления индустрии и интересы кинодеятелей иногда совершенно не совпадают. А скорей всего, не совпадают по доброй волне никогда.
Подзаработать Кроненбергу удалось со следующей картиной «Оправданная жестокость» (2005) по комиксу History Of Violence (издательство DC) Джона Вагнера. Вагнер, на самом деле, спаситель британской индустрии комиксов и поставлял идеи для сериала «Доктор Кто». Так что его работы очень хорошо известны англоязычной публике. Его хорошо приняли критики, ему дали двух «Оскаров», в том числе за роль второго плана — Уильяму Хёрту. Ну и собрал он 61 миллион. За то, что нам рассказали в очередной раз историю, что насилие у человека в крови, я думаю, — многовато.
«Порок на экспорт» (2007) — ещё более бесхитростная гангстерская драма, где уже есть чеченцы, похищенная из Москвы русская девочка, ресторан Trans-Siberian и прочее. Не о чем писать домой, как говорят наши американские друзья.
А вот «Опасный метод» (2011) есть смысл и смотреть, и обсуждать. Наконец-то режиссёр пришёл к истокам того, что его так интересовало всю его карьеру.
Он вдруг увидел спектакль «Лечение беседой» Кристофера Хэмптона — об отношениях Фрейда и Карла Юнга — и захотел от автора получить сценарий фильма.
Снимали, естественно, в Вене, играют исторические краски и Вагнер, Фрейд и Юнг собачатся по-взрослому, а тут ещё к ним примыкает Сабина Шпильрейн (Кира Найтли). И всем, конечно, было интересно посмотреть, как Карл Юнг сечёт Киру Найтли по голой попе в целях излечения от детской травмы.
Наверное, поэтому довольно нишевое кино собрало 27 миллионов по миру. Но все ещё интересней, потому что Сабина Николаевна Шпильрейн — это реальный персонаж.
Когда она сошла с ума, она ещё звалась Шейва Нафтульевна Шпильрейн.
И была она из России, приехала лечиться и, пока лечилась, заинтересовалась психоанализом. Чтобы закрепить новые знания, стала любовницей Карла Юнга, которого за это выперли с кафедры и из клиники. И вот именно она, конечно, — самый трагичный персонаж всей этой истории, потому что в 1923 году она вернулась в Россию по зову Троцкого, который активно развивал в революционной России психоанализ. Открыла в Москве детский дом — лабораторию «Международная солидарность» (где воспитывался, например, Василий Сталин), заведовала секцией детской психологии в 1-м Московском меде. А после запрета психоанализа возвратилась домой, в Ростов-на-Дону. В 1942-м в Ростов пришли немцы и поубивали всех евреев, в том числе и Сабину с двумя дочерями.
Честно говоря, такая история мне кажется гораздо более волнующей, чем занудное препирательство двух психоаналитиков — Юнга с Фрейдом. Кстати, Юнг отлично пережил всю войну в своём домике на озере.
Последние фильмы Кроненберга на сегодня — типа триллер о судьбах капитализма «Космополис» (2012) и сатира на Голливуд «Звёздная карта» (2014), в конкурсе Каннского фестиваля — оставляют ощущение, что Дэвид Кроненберг медленно превратился в эдакого Пауля Верхувена: всё уже в порядке по жизни, да только всё по-настоящему хорошее — давно позади.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
